Выпуск 53
Воспоминания
Улыбающееся лицо молодежи
Uśmiechnięta twarz młodzieży
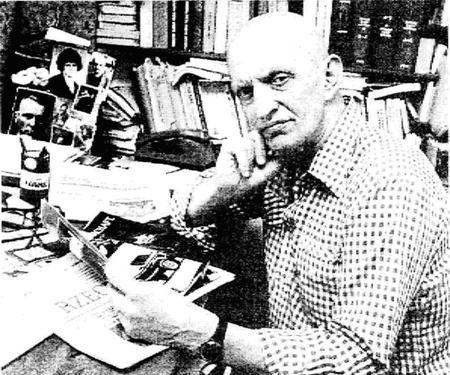 Надежды на быстрое и решительное обновление мира оказались неоправданными. Поколение – в той его части, которая нас интересует - пережило свой звездный час и было призвано к порядку. Максимализм не имел перспектив. Все толкало нас к более легкой формуле. Галчинский писал когда-то: «Необходимо сделать с миром то, что женщина делает с губами. А тогда и целовать будет можно”. Новый способ существования требовал дистанции, позы, иронического взгляда. Так можно было существовать в соответствии с правилами психической гигиены. Этого желала и публика.
Надежды на быстрое и решительное обновление мира оказались неоправданными. Поколение – в той его части, которая нас интересует - пережило свой звездный час и было призвано к порядку. Максимализм не имел перспектив. Все толкало нас к более легкой формуле. Галчинский писал когда-то: «Необходимо сделать с миром то, что женщина делает с губами. А тогда и целовать будет можно”. Новый способ существования требовал дистанции, позы, иронического взгляда. Так можно было существовать в соответствии с правилами психической гигиены. Этого желала и публика.
Конечно, можно было бы попросту закрыть лавочку. Но СТС еще желал существовать. Ценой больших усилий и после многих дискуссий было решено, что унылость ни к чему, и что по случаю надвигающейся новой пятилетки необходимы дистанция и мягкая ирония. Было решено рискнуть, потому что после перипетий 1958 года театр не выдержал бы очередной неудачи. Однако спектакль под названием «Улыбающееся лицо молодежи» соответствовал духу времени. Подсмеивались надо всем понемножку, не исключая и самих себя.
С этого момента ряд очередных спектаклей, начиная с «Нужно иметь тело», выдерживался в форме ревю. Это было очередное понимающее подмигивание, которое на сей раз публика приняла. Антураж ревю должен был быть в точности сохранен: красивые девушки дрыгали ногами, был хор, балет, песенки и общие финалы. В подтексте можно было найти критические замечания о нынешнем состоянии общественной жизни и рассуждения на тему старого и нового поляка. Не без сатирического подкалывания, хотя острие и было скрыто. И сами уколы должны были быть не опасными, до первой крови. Легкость не как прикрытие, а как способ бытия, преодолевающий тяготы существования, позволяющий находиться «внутри», но также и «вне», быть в меру эффективным, но одновременно и менее доступным – таков был замысел. Так что это был не просто эскапизм, побег в беззаботность. Немало в нем собиралось, находило одно на другое. Анджей Вирт, рецензируя в «Новой культуре» наш спектакль об «Улыбающемся лице…» постарался определить составляющие такой позиции:
«Это некое третье лицо, которое нельзя определить одним словом. В нем есть и скептическая гримаса, и отчаянные призывы, великие и чистые ценности, и недоверие к радикальным рецептам спасения мира, и соглашение с эпохой, и ненависть к занудным речам. Но зато в нем нет бессмысленного спокойствия, нет трагического тика тех людей, которые из идейных разочарований создали себе стиль жизни. Это лицо говорит о новой, более сложной форме вовлеченности, соответствующей противоречиям и хитросплетениям нашего времени”.
Последняя фраза, возможно, сама излишне выдержана в духе и стиле эпохи, но диагноз был поставлен, пожалуй, верно, особенно если учесть, что это лицо было улыбающимся.
Помимо всего прочего легкость жизни была также естественным, повседневным стилем. Ранее, становясь серьезными на сцене, мы делали это немного вопреки себе, ощущая свою миссию. Зато в театральной повседневности юмор был с нами неотлучно, считалось нормальным быть несерьезным, выражаться каламбурами, одна шутка зажигалась от другой. Городские новости, которые мы неустанно собирали, перекидываясь ими и размышляя, что из них удастся перенести на сцену, следовало обязательно обратить в шутку, даже если она временами была болезненной. Помимо спектаклей, дававшихся в театре, случались и неофициальные представления, представлявшие собой цепочки хитроумного злословия, пародий, передразнивания. В традицию вошли также новогодние вечера, подготавливаемые чрезвычайно старательно, подобно букетам разноцветных и разнообразных начинаний. Первый и самый яркий их этих вечеров, на переломе 1957 и 1958 годов, включал великолепную «шампанскую» забаву наперекор нашей тогдашней неудачной конъюнктуре, в связи с чем Войтек Солярж разработал «Проект закона о Новом годе», в котором провозглашалось: „Вольная Республика СТС – это государство красочных джентльменов, лишенных отсутствия чувства юмора и вместительных по части алкоголя”.
Воистину, юмор в те годы был способом раздобыть себе капельку свободы, пускай и ограниченной до территории Вольной Республики. Если бы мы тогда, еще до Милана Кундеры, придумали формулу из трех слов: «Невыносимая легкость жизни», то могли бы воспользоваться ею в качестве названия одной из программ или даже нескольких сразу […].
Впрочем, форма чистого ревю через некоторое время показалась уже затертой, и до конца существования СТС-а шли представления (конечно, наряду с другими формами) веселые и танцевальные, однако с острыми жальцами в глубине. Цензура тщательно их выискивала, происходил торг, что-то удавалось сохранить, что-то терялось, а два спектакля : «Мне не все равно» (1964) и «Раз живем на свете» (1969), были полностью сняты после нескольких представлений.
Так что совсем уж беззаботной эта забава не была.
ВРЕМЯ ВИТЕКА, ВРЕМЯ АНДЖЕЯ, ВРЕМЯ АГНЕШКИ
Вместе со входом театра в новую фазу закончилось время Витека Домбровского, который ушел из СТС-а в своем стиле, то-есть потихоньку, словно бы на цыпочках. Это произошло где-то после «Седьмого цвета…», когда идейную прямолинейность уже не удавалось сохранить, а постепенный поворот в сторону легкого ревю не мог получить поддержки со стороны того, кто совсем недавно клеймил (а мы вместе с ним) „крик саксофона и наготу подергивающихся бедер». С той поры Витольд пошел своей, очень своеобразной дорогой, придя в установленном им самим порядке, честно и последовательно, к отвержению столь жарко проповедуемой им идеи в пользу диссидентской позиции. Но это было потом. Пока что мы его потеряли.
Началось все с характерного парижского инцидента. Труппа театрика выехала в 1957 году на сбор винограда во Францию, затем собралась в Париже и, помимо прочего, впервые получила возможность войти в контакт с эмигрантами. Необычайно важным для будущего оказался строго секретный визит в Мезон-Лаффит, где коллектив сотрудников «Культуры» принял нас чрезвычайно приветливо, явно радуясь тому, что мы оказались в принципе нормальными молодыми людьми, а нам пришлось совершить пересмотр очередной части наших партийных принципов. В «Культуру» поехало лишь несколько человек; Витека там не было, и по его тогдашним убеждениям быть не могло. Мы установили также дружеский контакт с Клубом Комбатантов на рю Лежандр, где нам тоже обрадовались, что мы, мол, такие довоенные, и предложили выступить. На всякий случай -такое уж время было ,какое было - мы попросили совета в польском посольстве. Оно не возражало, наоборот, это было время сближения с эмиграцией. Однако драматично и полностью против выступления ополчился – Витек. Он ходил по Парижу своими дорожками, но, услыхав о готовящемся выступлении, пришел и стал перед нами, словно Рейтан. Он был так же одинок, но и столь же неистов. Решение выступить перед эмигрантами он считал грубой политической ошибкой. Я помню тяжелую атмосферу этой встречи-расставания. Как говорится, «труднее всего с союзниками». Через некоторое время говорить было уже не о чем. Все были за, он один – против. Однако он не уходил, вглядываясь в наши лица из-под своих темных очков. Похоже, мы сделали все (ну, может быть, почти все), чтобы дело не дошло до скандала (если бы у него нашлись силы и средства). Выступление состоялось, нас приняли сердечно, а Витек исчез как раз с этого момента.
А ведь у него бывали, как я помню, удивительные реакции, гораздо более широкие, чем его взгляды. Когда на фестивале Студенческих театриков подошло к концу представление гданьского театра «Бим-Бом» под названием «Агааа…», весь зал встал и устроил овацию. Всех распирала радость переживания. Я в порыве души бросился за кулисы, Витек тоже. Первым, кого мы встретили, оказался Збышек Цибульский. Мы оба одновременно поцеловали ему руку. Кстати, Збышек повел себя как настоящий артист – он нас тоже поцеловал. Я часто думал об этом эпизоде. В принципе этот спектакль был против Витека. Но только в принципе, потому что на самом деле Витек изначально был очень глубоким лириком. Он подарил нам, простым человекам, очень красивую песню «Каштаны», которая возвысила и внесла тепло в нашу, все же довольно непоэтичную, жесткую и пресную ткань университетской жизни. Это было легкое прикосновение руки мастера, изменившее для нас кусочек мира. Благодаря его песне тогдашние времена вдруг украсились и остаются украшенными доныне:
|
Wczesny zmierzch uczelniany poocienial kasztany, Opadają powoli liście pięciopalczaste, |
Ранний вечер туманный бросил тень на каштаны, Опадают с каштанов пятипалые листья, |
Также он, уже уходя, подарил нам для спектакля «Седьмой цвет…» очень важную «Песню о Колхиде», одну из главных СТС-овских песен […] . Она начиналась, как и следовало ожидать , со вполне однозначной увертюры в прозе: «Это я, гребец с лодки «Арго», который плыл с Язоном в Колхиду за Золотым руном. Это я, старший матрос с крейсера «Аврора…» и т.д. А далее говорится о непрестанном плавании, причем первый куплет заканчивается словами: „мы доплывем, я знаю”, а второй: „кто-то туда доплывет, я знаю». Очень много для нас значила эта его «Колхида».
Таким образом, от нас ушел наш текстовый лидер, а СТС хотел оставаться театром текста. Поскольку, однако, как говорят русские, «свято место пусто не бывает» то место Витека занял, удержав его уже до конца, Анджей Ярецкий.
Такой театр, как наш, создавался в атмосфере равенства. Именно затем, чтобы его достичь, мы в нем и сошлись. Но одновременно создавалось и неравенство, без которого, впрочем, жизнь невозможна. А в любой из областей появились наиболее значительные особы, которые в них и верховодили. Главным режиссером с самого начала был и до конца остался Ежи Маркушевский, который задавал стиль, ритм, энергию и то «нечто», что определяло декор спектакля. Из актеров наибольшее значение приобрел вначале Лешек Бискуп; я помню каждую ноту и паузу в его роли Шарлатана, которую он исполнял, раскладывая разноцветные шапочки с виртуозностью наивысшего полета. После него роль корифея принял на себя Рысек Прач, выражавший именно дух нового этапа: легкий, ироничный, двузначный, в неустанном сговоре с публикой. В музыке наиболее ярко проявился след и тон незабываемого Марка Люстига, а в сценографии — прецизионные художественные метафоры Зоси Гуральчик. Техника сцены и кулис тоже требовала искусства, в этом деле блистал Тадеуш Адамковский, сосредоточенный и точный. А ведь во всех этих сферах действовали и другие, тоже хорошие, а часто и великолепные участники, и о каждом можно было бы сказать доброе слово признательности. Но позиции лидеров явно выделялись, и их первенство воспринималось, в общем, безропотно.
Так же обстояло дело и в главном, текстовом сегменте. Здесь звучало множество голосов, каждый по-своему. Агнешка Осецкая в СТС-е сформировала свой стиль песенок, разошедшийся в дальнейшем по всей Польше. Ярослав Абрамов внес в него врожденное чувство сценичности и силу диалога. Земовит Федецкий точнехонько выстругивал шутки, прибегая к ювелирной игре слов. Сильную опору на повседневность и на саму жизнь дал театру приход Сташка Тыма. Были и другие. Но подобно тому, как вначале первенствовал Витек, так на крутом повороте нашего пятилетия власть принял Анджей Ярецкий. Каждый раз от него ждали главных текстов, популярно называемых «указателями». И он всегда выдавал их безошибочно. Даже чисто количественное сравнение (я взял данные из книги Прача) достаточно выразительно: Анджей дал театру чуть меньше текстов (в сумме 183) чем все остальные авторы, вместе взятые, не считая, конечно, Агнешки Осецкой.
Дело, однако, не столько в количестве, сколько в мысли, которая под пером Анджея достигала одновременно и легкости, и убедительности. Была в этом определенная мера суждения о вещах и событиях, нечто вроде интеллектуального «золотого сечения», которое выражало именно то, что театр мог и хотел сказать. Крылатые фразы и формулы Анджея с того времени разошлись вдаль и вглубь по всей Польше. Чуткое ухо и сейчас улавливает их тихое звучание: „А мне не все равно”, „Иди-ка гулять, Аллегория», «Нужно иметь тело», «В нашем городе нет уже денег», «Пекло у нас остыло, а небо нас допекло», «До свидания, планета», « Не вернуться мне на Итаку», «Пусть же капитализм копает нам ямы», «Где-то, может, живут по-другому, ну а здесь точно так, как везде»… Эти слова создают определенное пространство, которое было нашей малой отчизной. Хорошей или плохой, но своей, с содержащейся в этих словах иронией, скептицизмом, затягивающимися ранами молодежного доверия, меланхолией, потребности в тепле, в сообществе, в отклике на все, что происходит вокруг, в готовности к новой вовлеченности. Можно было бы продолжить этот список. Анджей придавал фразе элегантную форму, вносил в нее ритм, выразительность метафор, пуэнту, юмор. У его фраз было легкое дыхание, разговорная естественность, обыденность интеллигентских разговорчиков, иногда кажущаяся небрежность, и во всем этом скрывалось высокое, ненавязчивое искусство. Счастливый дар. В общем, дар так и не признанный, потому что у нас репутацию принято завоевывать национальными операми. Может, еще и потому, что Анджей постоянно производил впечатление постоянно обещавшего чего-то еще большего и очень важного, что наверняка мог бы еще написать...
Его «Эвридика» стала для нас вторым после «Колхиды» существенным посланием. В ней видна интенсивность преодолеваемой внутренней напряженности. Все немедленно опровергается и ничего не исполняется, хотя и повторяется неустанно. Это - процеженная горечь синтеза, хотя и просветленная легкостью и страстностью жизни, свойственной Анджею.
|
Eurydyko, Eurydyko, |
Эвридика, Эвридика, |
Некий существенный фрагмент жизненного приключения нашего поколения можно усмотреть именно в судьбе Анджея. Он прошел через полонистику (это был следующий за моим курс, где учились Абрамов с Домбровским, гораздо более интересный и богатый, чем наш), а в СТС-е он нашел свое естественное место на земле. Прошел вместе с театром все его радости и горести. По натуре он был человеком, склонным к компромиссам - лишь бы в пределах приличий. Кроме того, он очень хотел существовать и действовать именно в театре, поэтому под конец тащил СТС за собой, попадая во все менее выгодные ситуации. Я знаю, что к нему из-за этого были претензии, но я уже в этом не участвовал. В конце концов, власти и так отставили его от театра, а на политическом форуме, где он представлял собой значительную фигуру, он всегда держался очень достойно […].
А теперь, с достаточно уже большой перспективы времени, неожиданно пресекшейся краткой линией внезапной смерти – рядом с ними двумя, Витеком и Анджеем, вырисовывается еще некто третий - Агнешка Осецкая .
Это произошло довольно неожиданно, потому что Агнешка в СТС-е была некоторое время на втором плане. Правда, с годами она становилась все более значительной и важной фигурой на радио, в эстраде, театре, в кабаре, в телевидении. А вот у нас, в том месте, откуда она вышла, она держалась – с тихим упрямством - немного в сторонке. Она не любила выступать в ходе многочасовых дискуссий над очередной «формулой», прежде всего, понятное дело, политической. Любила повторять нечто такое: вы мальчики, вы умные, вот и дискутируйте, а я, девушка, в этом не разбираюсь, давайте я вам лучше подброшу что-нибудь лирическое, все, что захотите... Глаза ее при этом светили сь несколько иронической улыбкой. В действительности она была быстра в суждениях и очень интеллигентна; умела также находить удачные ситуационные формулы. Ее «Влюбленные с улицы Каменной» или «Очкарики» были ведь манифестами поколения. Но она выбрала именно такую форму общения. Сегодня я усматриваю в этом ее ум или хороший инстинкт, а, может быть, и то, и другое. В итоге это оказалось также очень нужным и для театрика. Мы ведь желали быть театральной политической газетой, особенно на начальном этапе. Но эффект получился бы довольно суховатым, если бы не постоянный лиризм и тепло текстов Агнешки. Наши - иногда выходили слишком менторскими и костлявыми. Разноцветное видение нашей подруги спасало ситуацию. Не разобравшись толком, мы любили подсмеиваться над нею: мол, все это слишком сентиментально, слишом «агусенькое». И, в самом деле, некоторые тексты впадали в сентиментальность, но так было лишь вначале. Потом Агнешка нашла свой собственный способ лирического выражения, подшитый фантазией и чувством юмора, а в случае необходимости - даже и черного. Можно было вовсе этого не любить, находились и такие, что тихо ворчали. Но трудно было отказать ей в крутом профессионализме. А его Анешка приобрела очень рано, может быть, благодаря ее контактам со специалистами старых, довоенных лет. К ним относился и ее отец, Виктор Осецкий, пианист, композитор и аккомпаниатор, человек, как говорится, «из сфер». Похоже, что он судил дочку чересчур строго, пока не сориентировался, что она действительно - способная. Впрочем, Агнешка постоянно и очень серьезно училась. Я помню, как она вполголоса признавалась нам, что написать хорошую песню – это целая наука.
А позднее щедро делилась своими знаниями с другими, младшими по возрасту.
Началось все довольно смешно. После конфронтации с властями, когда разные инстанции Союза Молодежи Польши стали к нам придираться, появилась – на этой волне – чрезвычайно критическая статья в журнале «По просту». Автор статьи, неизвестная девушка, обвиняла нас в том, что мы очерняем организацию […]. Приняв вызов, мы полемизировали с ней: «Вам пора, коллега Осецкая, проснуться в мае на одиннадцатом году Народной Польши!...» - доказывая, что мы не очерняем, а занимаемся конструктивной критикой, и что это нам не запрещено. Вскоре дошло до встречи. Немного ощетинившиеся, мы увидели перед собой девятнадцатилетнюю блондинку, слегка покрасневшую от эмоций, но с решительной улыбкой, явно выходца из хорошего дома. Лед растаял сразу же; оказалось, что у девушки те же проблемы с СМП, что и у нас, и так уж получилось… Встречи участились, выяснилась полная близость, а осенью того же 1955 года прошла уже программа «Мышление» с целым циклом песенок Агнешки. И так продолжалось уже до самого конца, причем позже ее участие становилось все обширнее и разнообразнее: монодрамы, монтажи фактов, одноактные пьесы – и всегда, прежде всего, песни.
Когда мы изменили форму на более легкую, Агнешка получила уже полное признание: то было ее время, и именно она, наряду с Анджеем Ярецким, задавала тон. Создав определенный способ лирического существования для Польши, она всегда сохраняла для СТС-а существенную часть себя самой. Без нее мы наверняка были бы и беднее и суше, и даже не знаю, были бы мы вообще собой. Она умела распространять тепло среди дружественной нам интеллигенции. Была прекрасным товарищем во всех наших мазурских, парижских экспедициях, и не только в них. В свою жизнь на Мазурах она вошла особенно интенсивно; вместе с Анджеем они часто использовали мазурские мотивы в своих стихах, и все еще слышно их отдаленное эхо - в Кшижах, Згоне, Карвице...
Она вообще была богатым внутренне человеком, поражавшим свое окружение, нелегким для своих многочисленных партнеров. Провозгласив культ своей вначале детской, а после девической тихой комнатки на Саской Кемпе , она не боялась выставлять себя на острые сквозняки, беспокойно кружила по миру, к которому – как и к себе – предъявляла высокие требования. Она умела усложнять себе жизнь, неся другим успокоение; именно так бывает в литературе. И вот ее – нашей прекрасной девятнадцатилетней - уже нет... Все так, как в ее песне:
| Kiedy już po nas nic nie zostanie, nawet postępu nić, gdy tak się zmienią panny i panie, że tylko siąść i szyć, zaświeci księżyc ostatnim listkom, zawieje miły wiatr. I nagle wspomnisz sobie to wszystko, jaki był młody świat. |
Когда после нас все исчезнет в тумане, даже прогресса нить, и так изменятся панны и пани, что только сесть и шить, Месяц блеснет последним листочком, милый повеет зефир. И ты припомнишь себе вдруг точно, Как молод был этот мир. |
- И, наконец:
| W końcu się spotkamy z Bolesławem Chrobrym i znów „do widzenia” i znów „dzień dobry”. |
А в конце нас обнимет кто-то из Пястов, и снова «пока», и снова «здравствуй!» |
Перевод Анатолия Нехая
Источник:«Wczasy pod lufa» ( Philip Wilson, W-wa, 1997)
Улыбающееся лицо молодежи
Мы уже знакомили наших читателей с воспоминаниями известного русициста, писателя и общественного деятеля Анджея Дравича «Поцелуй на морозе», опубликованными в 1 Выпуске ДП. Здесь мы приводим фрагмент воспоминаний Дравича, взятый из другой его книги «Каникулы под дулом пистолета» (“Wczasy pod lufą”1997), где рассказывается о студенческом театре СТС в Варшаве, в котором автор принимал активное участие. Действие происходит после 1958 года, когда театр пережил творческий кризис и был "призван к порядку" властями. В воспоминаниях говорится о друзьях Дравича по СТСу, в частности поэте Витеке Домбровском, режиссере Анджее Ярецком и Агнешке Осецкой.
