Выпуск 1
Поэзия и проза
Новый опыт: о стихах Адама Загаевского и не только
В отношениях «Восток-Запад», которым посвящается новый ежеквартальник «Forum Wschodni», поэзия Адама Загаевского занимает особое место. Я попробую определить его на примерах, взятых из творчества других польских поэтов, переводами стихов которых занимаюсь уже много лет.
Для Галчинского, проведшего в России свои школьные годы и испытавшего сильное влияние русской литературы, это была ностальгическая любовь с немалой долей идеализации:
РОССИЯ[1]
Всюду там, где береза
И разносится песня колес одинокого воза:
— Ах,дербень, ах, Калуга... — поет он и в солнышко едет;
там, где белки — царевны, где властвуют мишки-медведи,
где у женщин высокая грудь, а в прищуре очей — вся сладость мирская,
там, где путника вечером ждет чашка чая,
и избушка, и сон, и бренчанье помытой посуды,
и резьба на дверях, нараспашку раскрытых для бедного люда,
всюду там, пусть на света краю эти двери резные —
там Россия.
1934
В этой идиллии, конечно, есть доля правды. Но ведь именно в том же 1934 году в советской России строился Беломоро-Балтийский канал, возводимый на костях сотен тысяч заключенных, проходивших там социалистическую «перековку». Самому же Галчинскому еще предстоял в 1939 году плен – вначале советский, а потом немецкий – и мучительное возвращение в послевоенную Польшу. И приспособление к новым реалиям, о чем поведал позднее Чеслав Милош в своем жестоком памфлете «Порабощенный разум».
Сам Милош, тоже побывавший в детские годы в России и повидавший вблизи русскую революцию, был гораздо более сдержанным в оценках. «Я очень люблю русских и люблю говорить по-русски, но не люблю самой России, России имперской», – признался он в одном из интервью. Отношение Милоша к России можно определить как объективно-критическое. Впрочем, у непокорного поэта литовских корней критическим бывало также отношение и к Польше и полякам:
В МОГИЛАХ СВОИХ ПРЕДКОВ ПОГРЕБЕННЫЕ
Проигран дом. Засыпал снег границу.
Под дудку шли от Петербурга роты.
Казачьи кони в их вошли столицу,
На пиках – кровь разгневанной голоты.
Пошли на бой – проиграно восстанье,
Своих людишек убоялись впору,
А ветер гнал в снега, толкал в изгнанье,
И ночью снился блеск петли позора.
Царь назло им крестьянам дал свободу,
За деньги встали кузни, мастерские,
И полуголый люмпен шел в заводы
Иль плыл из дымных хат в края чужие.
Хоть ненадолго, Польшей стали снова,
Уланы гарцевали на парадах,
И похвальбой хвалы сменилось слово,
И смерти тень легла на их порядок.
Москаль на танках въехал в их руины,
Дал им законы и ошейник дал им,
Провинцию в Империи открыли,
Неся, как подать, уголь, хлеб и сало.
Народ взбешен, а шут вещает в гимне,
Что столь счастливым никогда тот не был…
Мир подданным? Или войны погибель?
Всё ищут знаков и глядят на небо.
Судача в яме, – каждый в тень забился, –
Не ведают, что суд уже свершился.
Вашингтон, 1949
Другого поэта с такой же, как у Милоша, «рогатой душой», Ярослава Марка Рымкевича, принадлежащего уже к послевоенному поколению поэтов, трудно назвать русофилом. В своем романе-эссе «Разговоры поляков летом 1983 года» он передает типичные польские настроения эпохи военного положения в Польше, далекие от симпатий к России. Но вот это стихотворение Рымкевича как будто написано русским человеком:
УЖЕ ПРОШЛО ПОЛВЕКА[2]
Лагеря бараки в дымке снежной
Кто наш остановит бег кромешный
На снегу нагих останков груда
Черный ворон за полярным кругом
Там в сугробе лик античный стынет
Бел хозяин ледяной пустыни
Снег и боги мраморные эти
Мое сердце как лампада светит
Уж прошло полвека даже боле
Никому не ведать нашей боли
Уж прошло да не проходит значит
Кровь на льду и лай в дыму собачий
Торс без сердца кровушки лишенный
Все тайга тайга да эшелоны
Там в сугробе Аполлон раздетый
Все тайга тайга а следа нету
Наша жизнь за проволокой колючей
Белый дым от Воркуты ползущий
Конечно, лагерная судьба коснулась не только русских, но и очень многих поляков. Можно говорить об общности судеб, общем историческом опыте – и в нем источник сострадания, пронизывающего эти стихи. В интервью газете «Rzeczpospolita» поэт сказал: «…Иногда я думаю о русских с огромной любовью и огромной болью, вспоминая, что это – народ многострадальный, втянутый в шестерни истории и нечеловечески истерзанный ими. Если это так, то надо с изумлением и даже восхищением взирать на то, что, несмотря на все перенесенные им испытания, он сумел породить Тютчева и Мандельштама». Следует напомнить, что сам Рымкевич создал замечательные переводы стихотворений любимого им Мандельштама.
Ярослав Марек Рымкевич – это уже мой ровесник, так же как и Агнешка Осецкая, автор эпистолярной повести «Белая блузка». В ней тоже нашли выражение настроения польской интеллигенции времен военного положения, конспирации и борьбы с коммунизмом, хотя сама поэтесса и не принимала в ней активного участия. Любившая Чехова, дружившая с Булатом Окуджавой, Осецкая в обращенном к нему стихотворении «Прощание с Москвой» с нежностью вспоминает о вошедшей в ее жизнь России:
«…Хоть звучит еще гитара,
Мир безумием объят.
А я с той же верой старой:
Как достичь мне твоих хат?
Ты не едешь к моим хатам,
Хоть созрел там урожай,
А я год, наверно, пятый
Повторяю «Приезжай!»
…Объясни ты мне, пропавший
В беспорядке наших лет,
Отчего в сторонке вашей
Моей тропки виден след?»[3]
Адам Загаевский – поэт «новой волны», родившийся уже после войны. Его опыт – это уже новый опыт, впитавший в себя и послевоенное переселение из Львова на «освобожденные земли» (описанное им в замечательном эссе «Два города»), участие в борьбе оппозиции с коммунистическим режимом в Польше и длительный опыт эмиграции. Так же как и его учитель Милош, Загаевский различает «русских» и «Российскую империю». Есть у него стихотворение, в котором выражается надежда на возможное сближение:
ЕСЛИ Б РОССИЯ
Если б Россия была основана
Анной Ахматовой, если б
Мандельштам писал ее законы,
а Сталин был бы второстепенной
фигурой забытого грузинского
эпоса, если б Россия сняла свою
взъерошенную медвежью шкуру,
если б могла она жить в словах, а не в
кулаках, если б Россия, если б Россия…
Большое стихотворение «Россия входит в мои стихи» после длинного перечня обид и несчастий, принесенных Россией полякам, заканчивается такими словами:
…Россия входит в мою жизнь,
Россия входит в мои мысли,
В строки моих стихотворений.
Что ж, стихи Адама Загаевского тоже начинают входить в Россию. Пока они у нас еще мало известны. Отдельные стихотворения можно найти в антологиях и периодических изданиях[4], множится число интернет-публикаций с любительскими переводами его стихов. Это позволяет надеяться на то, что поэзия Загаевского будет у нас востребована и найдет своего читателя. Адам Загаевский – прекрасный, сильный поэт со своим независимым взглядом на мир. Доказательством может служить приводимая ниже подборка стихотворений, взятых из сборника «Ехать во Львов» (1985).
Добро пожаловать в Россию, Panie Adamie!
Анатолий Нехай
Стихотворения Адама Загаевского
НОВЫЙ ОПЫТ
Мы приобрели новый опыт –
радость, затем горечь поражения, грусть,
возрождение надежды –
новый опыт, который можно также
отыскать в дневниках
девятнадцатого века.
Так что же в нем нового?
Дружба? Нежность?
Связь между людьми?
Отвага, приоткрытая на момент и снова
свернутая наподобие транспаранта?
Биение сердца? Та предрассветная минута,
когда нам казалось, что и вправду
мы снова вместе, что освободились не только
от страха, но и от отчуждения?
Колокольный звон в костелах, легкий
и чистый, словно пение стрекоз?
Крохи переживаний? Знания?
Знаки вопроса?
ПЕСЕНКА ЭМИГРАНТА
В чужих городах появляемся мы на свет,
называем это отчизной, только недолго
дано нам восхищаться ее башнями и стенами.
С Востока на Запад держим мы путь, а перед
нами катится огромный обруч горящего
солнца, через который легко, словно в цирке,
прыгает дрессированный лев. В чужих городах
видим мы картины мастеров стародавних
и без удивления узнаем свои лица
на их полотнах. Мы уже существовали
ранее и даже испытывали страданье,
только не хватало нам слов. В соборе
православном в Париже последние седые
белоэмигранты молятся Богу, который
на столетия их моложе – и так же
беспомощен, как они. В чужих городах
мы и остаемся – как деревья, как камни.
БЕЗДОМНЫЙ НЬЮ-ЙОРК
Нью-Йорк всегда бездомен.
Длинные шеи домов.
Шарфы метро.
В Бэттери Парк некий безумец
обращается с речью ко всему человечеству.
Одновременно заседает ООН.
Жена русского дипломата примеряет
туфли в магазине на 34-й улице.
«В этих туфлях вы сможете
пройти всю Сибирь», – говорит ей
мулат, ставший перед ней на колени
наподобие трубадура.
Картина Вермеера «Урок музыки»
становится линзою, голубым
глазом, глядящим на город
с нежностью.
Может ли Бог глядеть иначе
на города, безумные и
лишенные совершенства?
«Я»
«Я» мало и невидимо, словно сверчок
в августе. Любит рядиться и переодеваться,
как и все карлики. Живет в промежутках
между гранитными зданиями и между правдами,
кои им служат. Оно существует даже
под пластырем, под бинтом. Его не сыскать
таможенникам с их прекрасными псами. Между
гимнами, между партиями скрывается «я».
Ночует в Скалистых Горах черепной коробки.
Вечный беглец. Оно – это я, а я
в нем пребываю в тревожной надежде, что, наконец,
обрел себе друга. Но «я»
одиноко и недоверчиво и ни с кем
не общается, даже со мной.
К событиям истории оно прилегает,
точно вода к стакану. С таким же успехом
можно бы было наполнить им кувшин в неолите.
Оно не находит себе покоя, желает течь
по акведукам, ищет все новых сосудов,
хочет изведать вкус пространства без стен,
рассеяться, распылиться… Потом исчезает,
будто желание, и в тишине августовской
ночи слышно лишь, как терпеливо
сверчки беседуют со звездами.
ЕХАТЬ ВО ЛЬВОВ
Родителям
Ехать во Львов. С какого вокзала ехать
во Львов, если не во сне, не на рассвете,
когда в росе чемоданы и как раз родятся
экспрессы и скорые. Внезапно уехать
во Львов, среди ночи, днем, в сентябре
или же в марте. Если Львов существует
под покрывалом границ и не только в моем
новом паспорте, если флажки деревьев,
ясени, тополя все еще громко дышат,
словно индейцы, а струи все так же бормочут
темным своим эсперанто, а ужи, точно мягкий
знак в алфавите русском, скрываются в травах.
Вещи собрать и уехать, ни с кем не
попрощавшись, в полдень, исчезнуть – так,
как девицы падали в обморок. Потом – лопухи,
зеленый строй лопухов, а под ними,
под зонтиками венецианской кофейни,
улитки говорят о вечном. Но собор высок,
ты ведь помнишь, все вверх, все вверх,
словно бы воскресенье, белые салфетки и ведёрко,
полное малины, на полу стояло, и моя
жажда, которая еще не наступила,
лишь сады, бурьян, янтарь черешни
и неприличный Фредро.
Львова было всегда слишком много, никто не мог
понять всех его закоулков, услышать
шепот каждого камня, сожженного
солнцем, церковь ночью молчала совсем
иначе, чем собор. Иезуиты крестили
траву, листок за листком, но она продолжала расти,
расти, как в беспамятстве, а радость таилась
повсюду, в коридорах и в кофемолках,
которые сами крутились, и в голубых
кофейниках и в первом формалисте – крахмале,
в капельках дождя и в колючках
роз. В желтизне мерзлых цветов под окошком.
С колокольни звонили, воздух дрожал, а чепцы
монахинь, подобные шхунам, проплывали перед
театром, света там было столько, что приходилось
бисировать бесконечное число раз,
публика сходила с ума, не желая
покинуть зал. Мои тетки еще не знали,
что когда-нибудь я воскрешу их в стихах,
и жили так доверчиво и одиноко.
Служанки бежали за свежей сметаной,
чистые и проглаженные, а в домах было немного
злости и много надежд. Сам Бжозовский
приезжал делать доклады, а один из моих
дядей написал поэму, называвшуюся «Зачем?»
посвященную Всемогущему, и было слишком много
Львова, он не умещался в сосуде,
распирал его стенки, выплескивался наружу
из прудов и озер, дымился во всех
трубах, превращался в огонь и бурю,
смеялся в молниях, покорялся,
возвращался домой, читал Новый Завет,
спал на топчане под гуцульским килимом.
Было слишком много Львова, а теперь его нет,
неудержимо он рос, но его стригли ножницы
холодных садовников, как обычно,
в мае, без жалости и любви,
ах, подождите, скоро придет теплый
июнь с мягкими папоротниками, бескрайнее
поле лета, то есть реальность.
Однако ножницы стригли вдоль и поперек
волокон, портные, садовники и цензура
кромсали тела и венки, секаторы неутомимо
работали, точно в детской вырезалке,
когда нужно выстричь лебедя или серну.
Ножницы, кусачки и лезвия царапали,
резали и укорачивали пышные платья
прелатов, площадей и строений, деревья
падали беззвучно, будто бы в джунглях,
и собор сотрясался, и прощались на рассвете
без платков и слез, только сухость
губ, никогда тебя не увижу, столько смерти
ждет тебя, ну почему каждый город
должен стать Иерусалимом, а каждый
человек – превратиться в Жида, а теперь побыстрее
паковаться, всегда, ежедневно
и мчать что есть духу, ехать во Львов – ведь он
существует, спокойный и чистый, подобный
персику. Львов есть повсюду.
СИЛА
Та сила, которая бьется
в ветвях деревьев
и в соке растений
живет также и в стихах
однако успокоенная
Та сила, которая скрыта
в поцелуе и в жажде
кроется и в стихах
хотя и умиротворенная
Та сила, что вырастает
в снах у Наполеона
веля ему добывать Россию с ее снегами
есть также и в стихах
но – без движения
ГРАНИЦА
Горьким будет бессмертие стран,
спящих на мягких картах из воска,
стран, границы которых передвигает ветер.
Наполеон или Сталин диктуют им конституцию,
глядя в окно и постоянно думая при этом
о чем-то ином.
Под жесткой шкурой чужой власти живут
женщины, мужчины, часы и животные,
водные струи, сердца. Нет исхода.
Ни отвага, ни трусость, ни стих,
ни вояж на другой континент, – не способны
пробить свинцовую стену излишне родного
дома.
Бог держит сторону сильных, а слабым
предлагает долгие часы небытия
и страха. Дарит им лес, рассвет и звёзды,
музыку, нежность, а сам выходит на пальцах,
возвращаясь к своим королям, играющим в карты.
Неволя бессмертна, почти как соната
Скарлатти.
Те, кто жил не совсем, в краю нереальном,
и умрут не навеки, все будут себе искать
воплощенья второго, иного призванья.
Там, где красота не нашла окончательной
формы, она проявляется в жестах, в поступках,
в лицах женских и в гневных криках
мужских – одиночных, неуверенных, разноголосых,
вроде крошек или цветов одуванчика.
Но все же ты существуешь, и вся земля
умещается в твоем внимательном взгляде.
Корабли плывут под твоим отчаянным флагом
и везут в своих трюмах легкую радость,
для которой единой границей будет
шлагбаум смерти, вздутые в лихорадке губы
последнего расставанья. Но даже и там с тобою
будет любовь, – начало нескончаемой
памяти.
Переводы Анатолия Нехая
[1] В сборнике: Константы Ильдефонс Галчинский. «Стихи для Наталии», СПб, 2004.
[2] В сборнике: Ярослав Марек Рымкевич. «Сад в Милянувке», СПб, 2009.
[3] В сборнике: Агнешка Осецкая. «Ах, пани, панове…», СПб, 2006.
[4] См. например, антологию «Польские поэты ХХ века» Наталии Астафьевой и Владимира Британишского («Алетейя», СПб, 2000), подборку в журнале «Звезда» №10 (2009), посвященном польской культуре, и недавно вышедшую антологию польской поэзии «Из века в век» (М., МАГИ, 2011).
Новый опыт: о стихах Адама Загаевского и не только
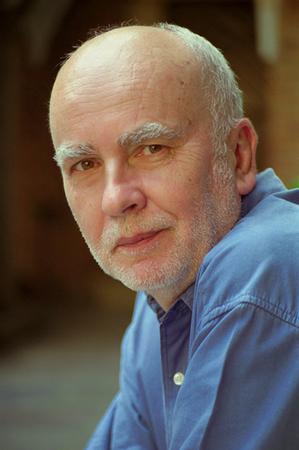 Адам Загаевский, — польский поэт, прозаик, эссеист «поколения 1968 года» («новой волны). Родился во Львове в 1945 г. Учился философии и психологии в Ягеллонском университете. Входил в литературную группу «Сегодня». Подписал диссидентское «Письмо 59-ти» (1975), участвовал в движении «Солидарность», публиковался в самиздате. С 1981 г. жил в Париже, в 2002 г. вернулся в Польшу. Живет в Кракове и Хьюстоне (США), преподает в американских университетах. Один из наиболее известных сегодня в мире польских поэтов. Стихи, проза и эссе Загаевского переведены на многие языки.
Адам Загаевский, — польский поэт, прозаик, эссеист «поколения 1968 года» («новой волны). Родился во Львове в 1945 г. Учился философии и психологии в Ягеллонском университете. Входил в литературную группу «Сегодня». Подписал диссидентское «Письмо 59-ти» (1975), участвовал в движении «Солидарность», публиковался в самиздате. С 1981 г. жил в Париже, в 2002 г. вернулся в Польшу. Живет в Кракове и Хьюстоне (США), преподает в американских университетах. Один из наиболее известных сегодня в мире польских поэтов. Стихи, проза и эссе Загаевского переведены на многие языки.
Статья "Новый опыт: о стихах Адама Загаевского и не только" была подготовлена для первого номера ежеквартальника "Forum wschodni" во Вроцлаве.
